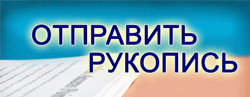Возможности и перспективы эхокардиографической диагностики нарушений локальной сократимости миокарда левого желудочка при хронической ишемической болезни сердца
- Авторы: Николаева Т.О.1, Мазур В.В.1, Мазур Е.С.1
-
Учреждения:
- ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России
- Выпуск: Том 10, № 3 (2025)
- Страницы: 201-210
- Раздел: Кардиология
- Статья опубликована: 12.08.2025
- URL: https://innoscience.ru/2500-1388/article/view/688475
- DOI: https://doi.org/10.35693/SIM688475
- ID: 688475
Цитировать
Аннотация
В настоящее время основным методом выявления транзиторных нарушений локальной сократимости миокарда левого желудочка у больных с коронарным атеросклерозом служит визуальная оценка сократимости миокарда при физической или фармакологической нагрузке. Визуальная оценка сократительной способности миокарда, особенно в нагрузочных пробах, требует большого опыта в проведении такого рода исследований. Однако зрительная оценка даже самого опытного оператора по-прежнему не лишена субъективизма. В связи с этим одним из магистральных направлений диагностики нарушений локальной сократимости левого желудочка была и остается разработка методов объективной количественной оценки функционального состояния различных участков миокарда левого желудочка. Существенным успехом на этом пути стало создание методики отслеживания серого пятна (speckle-tracking эхокардиография), позволяющей получить количественную оценку деформации миокарда при его сокращении и расслаблении.
В обзоре представлены результаты исследований, свидетельствующие, что определение показателей деформации миокарда левого желудочка может стать альтернативой традиционному методу, лишенной таких его недостатков, как субъективизм восприятия визуальной информации и очень высокие требования к уровню квалификации оператора. Углубление знаний о механизмах и клиническом значении различных показателей деформации миокарда, наряду с совершенствованием как самой методики speckle-tracking эхокардиографии, так и алгоритмов автоматизированной обработки получаемых с ее помощью данных, создает реальную перспективу ее внедрения в клиническую практику в качестве основного метода выявления транзиторных нарушений локальной сократимости миокарда левого желудочка у больных с гемодинамически значимым коронарным атеросклерозом.
Полный текст
Список сокращений
ГПС – глобальный продольный стрейн; ИБС – ишемическая болезнь сердца; КАГ – коронарная ангиография; НЛС – нарушение локальной сократимости; ОВ – огибающая ветвь; ПКА – правая коронарная артерия; ПМЖВ – передняя межжелудочковая ветвь; ПСИ – постсистолический индекс; ПСУ – постсистолическое укорочение; ТИМ – транзиторная ишемия миокарда; ЭхоКГ – эхокардиография; AUC – площадь под кривой; РПС – региональный продольный стрейн.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из основных задач эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) является выявление нарушений локальной сократимости (НЛС) миокарда левого желудочка, причиной которых может стать целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы [1]. Самой частой причиной НЛС является ишемическая болезнь сердца (ИБС), в частности ишемический некроз (инфаркт) сердечной мышцы с последующим замещением некротизированного участка миокарда соединительной тканью. Причиной утраты сократительной способности миокарда может стать не только некроз, но и стойкое снижение кровоснабжения участка сердечной мышцы до уровня, достаточного для поддержания жизнеспособности миокардиоцитов, но не достаточного для выполнения ими своей сократительной функции (гибернирующий миокард) [2]. Значительно реже НЛС связано с другими причинами, например, с отложением амилоида [3].
В перечисленных выше случаях НЛС являются стойкими, то есть сохраняющимися на протяжении длительного времени независимо от выполняемой сердцем работы. Причиной преходящих НЛС служит транзиторная ишемия миокарда (ТИМ), чаще всего возникающая из-за невозможности адекватного увеличения кровоснабжения миокарда при возрастании нагрузки на сердце. Морфологическим субстратом ТИМ обычно является гемодинамически значимый атеросклероз коронарных артерий, однако ограничение кровоснабжения миокарда при нагрузке может быть связано и с пережатием коронарных артерий (так называемыми «мышечными мостиками»), и с утратой коронарными артериями способности к расширению в ответ на возрастание скорости кровотока в них (Х-синдром). К появлению ТИМ в условиях физического покоя может привести спазм коронарной артерии (вазоспастическая стенокардия) [4]. Таким образом, выявление НЛС является лишь первым шагом диагностического процесса, задачей которого служит установление причины их появления.
В обзорной статье проведен анализ современных возможностей ЭхоКГ в диагностике и дифференциальной диагностике стойких и преходящих НЛС миокарда левого желудочка.
Методология поиска источников. Поиск литературы осуществлялся в базах данных РИНЦ и PubMed по следующим ключевым словам: технология speckle tracking echocardiography; стресс-эхокардиография и нарушения локальной сократимости миокарда, или глобальный продольный стрейн левого желудочка, или постсистолическое укорочение миокарда (speckle tracking echocardiography, stress-echocardiography and regional myocardial contractility disorders or global longitudinal strain of the left ventricle or myocardial postsystolic shortening). В общей сложности было проанализировано 3215 публикаций. Условия отбора для журнальных статей и других материалов были следующие: год публикации – не ранее 2010 года; акцент на использование технологии speckle tracking echocardiography при выполнении нагрузочных тестов (стресс-эхокардиографии). В итоге для финального анализа были отобраны 36 статей.
ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НЛС
С момента внедрения ЭхоКГ в клиническую практику и до настоящего времени основным методом выявления НЛС является визуальное сравнение сократительной активности различных участков миокарда левого желудочка [1]. Сокращение миокарда сопровождается хорошо заметным на глаз утолщением стенок левого желудочка и их смещением к «осевой линии» левого желудочка.
В период систолы толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка возрастает более чем на 50%, а его поперечный размер уменьшается не менее чем на 10% [5]. Визуально можно констатировать снижение сократительной активности определенного участка миокарда (гипокинез) или полное отсутствие сокращения (акинез), а также систолическое или систоло-диастолическое выбухание участка сердечной мышцы (дискинез или аневризма). При наличии НЛС в одних участках миокарда в других может отмечаться повышенная сократительная активность (гиперкинез). Оценку сократительной активности различных участков миокарда нередко выражают в баллах: гиперкинез – 0, нормокинез – 1, гипокинез – 2, акинез – 3, дискинез – 4, аневризма – 5 [1].
Для указания локализации выявленных изменений предложено три схемы сегментарного деления левого желудочка – 16-сегментная, 17-сегментная и 18-сегментная. В настоящее время наиболее широкое распространение получила 17-сегментная схема, выделяющая 6 сегментов на базальном уровне, 6 – на медиальном и 5 – на уровне верхушки (рисунок 1).
Рисунок 1. Схема сегментарного деления и кровоснабжения сегментов левого желудочка. Слева – схема сегментарного деления левого желудочка (розовый цвет – базальный уровень, желтый – медиальный, зеленый – апикальный). Справа – схема кровоснабжения левого желудочка (ЛКА – левая коронарная артерия).
Figure 1. Diagram of segmental division and blood supply of the segments of the left ventricle. On the left is a diagram of the segmental division of the left ventricle (pink: basal level, yellow: medial level, green: apical level). On the right: diagram of blood supply to the left ventricle (LCA: left coronary artery).
На этом же рисунке представлена схема кровоснабжения сегментов левого желудочка, предложенная M.D. Cerqueira и соавт. (2002) [6]. В зависимости от особенностей коронарной анатомии 9-й сегмент может получать кровь из передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) или правой коронарной артерии (ПКА), 6-й, 12-й и 16-й – из ПМЖВ или из огибающей ветви (ОВ), а 5-й и 11-й – из ОВ или ПКА. Несовпадение НЛС с зоной кровоснабжения той или иной коронарной артерии позволяет думать об их неишемическом происхождении, например, об отложении в области НЛС чужеродной субстанции.
Для выявления преходящих НЛС проводят пробы с физической или фармакологической нагрузкой под контролем ЭхоКГ (стресс-ЭхоКГ). Для дозирования физической нагрузки используется велоэргометр или тредмил (беговая дорожка), в качестве фармакологической нагрузки применяется инфузия добутамина. В обоих случаях возрастает частота сердечных сокращений и потребность миокарда в кислороде, что при невозможности адекватного возрастания коронарного кровотока приводит к появлению ТИМ и преходящих НЛС. Современные ультразвуковые аппараты оснащены так называемой стресс-системой, которая обеспечивает одновременный вывод на экран записи систолической части кардиоцикла в покое и при нагрузке, что существенно облегчает выявление преходящих НЛС.
Проба с физической нагрузкой на вертикальном (сидячем) велоэргометре и особенно на тредмиле хорошо моделирует реальные условия, приводящие к появлению ТИМ, но не позволяет визуально отслеживать сократительную активность миокарда во время нагрузки. Такую возможность дает горизонтальный (лежачий) велоэргометр, однако из-за нефизиологичности такой нагрузки он не получил широкого распространения.
Проба с добутаминовой нагрузкой менее физиологична, но обеспечивает идеальные условия для непрерывной визуальной оценки сократительной способности миокарда. Кроме того, низкодозовая добутаминовая проба позволяет выявить участки гибернирующего, то есть живого, но не сокращающегося миокарда. Добутаминовая стимуляция вынуждает такой миокард сокращаться, что подтверждает его жизнеспособность. Выявление гибернирующего миокарда имеет важное значение для решения вопроса о целесообразности реваскуляризации после перенесенного инфаркта [2, 5].
Следует подчеркнуть, что визуальная оценка сократительной способности миокарда, особенно в нагрузочных пробах, требует большого опыта в проведении такого рода исследований. Официально считается, что результаты первых 50 исследований, выполненных начинающим оператором, не имеют диагностического значения [5]. Однако оценка даже самого опытного оператора остается субъективной, свидетельством чему могут служить характеристики стресс-ЭхоКГ как предиктора выявления гемодинамически значимого коронарного атеросклероза. По данным ведущих медицинских центров, чувствительность и специфичность нагрузочной пробы составляет порядка 85–90%, то есть ошибочным является каждый десятый случай выявления НЛС и каждый десятый случай констатации отсутствия НЛС при нагрузке [5]. В связи с этим одним из магистральных направлений развития ЭхоКГ была и остается разработка методов объективной оценки сократительной способности различных участков миокарда левого желудочка. Существенным успехом на этом пути стало создание методики отслеживания серого пятна (speckle-tracking эхокардиография), позволяющей получить количественную оценку деформации миокарда при его сокращении и расслаблении [7–10].
ПРОДОЛЬНАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МИОКАРДА
Во время систолы левый желудочек укорачивается, сжимается и скручивается вокруг своей продольной оси, вследствие чего каждый его участок претерпевает продольную, радиальную и циркулярную деформации. Деформация миокарда сопровождается изменением расстояния между его близлежащими точками, что позволяет дать количественную оценку деформации при сравнении расстояния между точками в начале и конце систолы. Провести соответствующие измерения можно с помощью различных методов, например, с помощью тканевого доплеровского исследования, однако в настоящее время «золотым стандартом» оценки деформации миокарда служит speckle-tracking эхокардиография – технология отслеживания серого пятна. С помощью этой технологии можно получить оценку всех трех компонентов систолической деформации, диагностическая ценность которых в разных клинических ситуациях может различаться [11]. Однако на сегодняшний день для использования в клинической практике рекомендована только продольная систолическая деформация [12]. В настоящем обзоре речь идет только об этом виде деформации миокарда, поэтому под систолической деформацией (систолическим стрейном) будет пониматься именно продольная систолическая деформация (продольный систолический стрейн).
Технология отслеживания серого пятна позволяет построить график изменения расстояния между двумя близлежащими точками миокарда в течение кардиоцикла (рисунок 2). Это расстояние принимает максимальное значение в конце диастолы, когда миокард полностью расслаблен. Во время систолы расстояние между отслеживаемыми точками уменьшается, а после завершения сокращения начинает возрастать. При этом разность между текущим и исходным расстоянием в период систолы возрастает, а во время диастолы уменьшается. Процентное отношение этой разности в момент закрытия аортального клапана к исходному расстоянию используется для количественной оценки систолической деформации миокарда (стрейна).
Рисунок 2. Изменение расстояния между близлежащими точками миокарда и показателя продольной систолической деформации (продольного систолического стрейна) на протяжении кардиоцикла (схема).
Figure 2. Changes in the distance between adjacent points of the myocardium and the longitudinal systolic strain index (longitudinal systolic strain) throughout the cardiac cycle (diagram).
Поскольку при сокращении миокарда расстояние между отслеживаемыми точками уменьшается, систолический стрейн имеет отрицательное значение. Однако при описании и статистической обработке результатов исследования обычно используют абсолютную величину стрейна, которая тем больше, чем сильнее сокращается миокард.
График деформации миокарда на протяжении кардиоцикла строится для каждого из 17 сегментов левого желудочка, а значения сегментарного стрейна в момент закрытия аортального клапана отражаются на цветовой карте, получившей название «бычий глаз» (рисунок 3). Переход от насыщенного красного цвета к насыщенному синему отражает снижение сократительной способности миокарда от гиперкинеза до дискинеза.
Рисунок 3. Результаты измерения продольного систолического стрейна левого желудочка методом speckle-tracking эхокардиографии. Представлены графики изменения стрейна на протяжении кардиоцикла во всех 17 сегментах левого желудочка. Значения стрейна в момент закрытия аортального клапана отражены на цветовой карте.
Figure 3. Results of measuring the longitudinal systolic strain of the left ventricle using the speckle-tracking echocardiography method. Graphs of strain changes throughout the cardiac cycle in all 17 segments of the left ventricle are presented. Strain values at the moment of aortic valve closure are shown on the color map.
Цветовая карта дает наглядное представление о сократительной способности различных участков миокарда левого желудочка, в связи с чем она достаточно широко используется в учебных пособиях и при описании клинических случаев. Для обобщенной оценки представленных на карте данных используют показатели, отражающие сократительную активность сегментов миокарда, относящихся к тому или иному региону (региональный продольный стрейн – РПС). В большинстве случаев региональные показатели рассчитывают как среднее значение стрейна в сегментах, относящихся к данному региону. Показано, в частности, что у здорового человека в покое среднее значение стрейна в базальных сегментах ниже, чем в апикальных, причем на фоне физической нагрузки эти различия становятся более выраженными [13].
Для изучения связи НЛС с ишемией миокарда обычно рассчитывают средние значения продольного стрейна в регионах, относящихся к зонам кровоснабжения той или иной коронарной артерии (рисунок 1 справа). Такой подход был использован в исследовании M.K. Smedsrud и соавт. (2012) [14], в которое вошли 86 пациентов с рецидивирующими болями в груди. При этом пациенты с ранее верифицированной ИБС в исследование не включались. Speckle-tracking эхокардиография в условиях покоя выполнялась перед проведением коронарной ангиографии (КАГ), результаты которой позволили выявить пациентов с гемодинамически значимым коронарным стенозом (более 50%) и без такового. Оказалось, что средние значения РПС у лиц с гемодинамически значимыми стенозами в среднем на 2,2% ниже, чем в альтернативной группе (17,9±3,5% против 20,1±2,9%, р = 0,015). Однако прогностические возможности снижения РПС в отношении выявления при КАГ гемодинамически значимого стеноза оказались весьма скромными: площадь под кривой ошибок (AUC) равнялась 0,67 (95% ДИ 0,52–0,82).
Аналогичный подход был использован еще в нескольких исследованиях, подтвердивших наличие статистически значимых различий РПС в покое у больных с гемодинамически значимым атеросклерозом и без такового [15]. Оценка прогностических возможностей РПС в этих исследованиях оказалась практически одинаковой (AUC от 0,72 до 0,75), однако значения отрезной точки варьировали в широких пределах (от 12,6 до 18,3%), что не позволяет рассматривать РПС в покое в качестве предиктора выявления гемодинамически значимого коронарного стеноза.
Можно полагать, что более надежным предиктором гемодинамически значимых коронарных стенозов окажется РПС на фоне физической или фармакологической нагрузки (рисунок 4).
Рисунок 4. Стрейн левого желудочка у пациента с гемодинамически значимым стенозом передней межжелудочковой ветви (МПЖВ) левой коронарной артерии до (слева) и после (справа) дозированной физической нагрузки. До нагрузки среднее значение продольного стрейна в зоне кровоснабжения ПМЖВ равно -22%, после нагрузки – +2,1%. Положительное значение систолического продольного стрейна свидетельствует, что миокард во время систолы растягивается, то есть находится в дискинезе.
Figure 4. Left ventricular strain in a patient with hemodynamically significant stenosis of the anterior interventricular branch (LAD) of the left coronary artery before (left) and after (right) dosed physical exercise. Before the exercise, the average longitudinal strain value in the blood supply zone of the LAD is -22%, after the exercise – +2.1%. A positive value of systolic longitudinal strain indicates that the myocardium is stretched during systole, i.e. is in the state of dyskinesis.
Действительно, в исследовании S.I. Farag и соавт. (2020) [16] было показано почти полное совпадение результатов оценки наличия и локализации гемодинамически значимого коронарного атеросклероза по цветовой карте, полученной при нагрузке добутамином, с данными КАГ. Коэффициент согласия (каппа) оказался равен 0,819 и заметно превышал коэффициент согласия с результатами КАГ визуальной оценки НЛС при стресс-ЭхоКГ (каппа 0,663). Чувствительность оценки НЛС по цветовой карте локального продольного стрейна в отношении выявления гемодинамически значимого атеросклероза оказалась равна 95%, а специфичность 90%, при этом аналогичные показатели для визуальной оценки НЛС равнялись 86% и 85% соответственно Результаты исследования свидетельствуют о перспективности изучения возможностей РПС при нагрузке в диагностике транзиторной ишемии миокарда, однако других работ по этой тематике в доступной литературе нам найти не удалось. Значительно чаще встречаются работы, посвященные изучению диагностических возможностей глобального продольного стрейна (ГПС).
ГПС рассчитывается как среднее арифметическое значений стрейна во всех сегментах левого желудочка. У здорового человека в условиях физического покоя значение ГПС близко к 20%, а при физической нагрузке возрастает примерно на 5 процентных пунктов. Так, после нагрузки на велоэргометре ГПС у 67 здоровых лиц в возрасте от 23 до 80 лет возрос с исходных 20,1±1,8% до 25,4±2,0%, р <0,0001 [13]. У 46 пациентов без ИБС, но с факторами риска ее развития (артериальная гипертензия, сахарный диабет, гиперлипидемия, отягощенный семейный анамнез), глобальный стрейн возрос до 25±3% (p<0,05) [17]. Введение добутамина также приводит к увеличению ГПС у здоровых лиц, но менее выраженному, чем при физической нагрузке [18].
ГПС отражает сократительную способность миокарда левого желудочка в целом, то есть несет ту же информацию, что и фракция выброса, однако обладает большей чувствительностью и воспроизводимостью при оценке систолической функции левого желудочка [19, 20]. В связи с этим определение ГПС рекомендовано для контроля за состоянием систолической функции левого желудочка при использовании кардиотоксических лекарственных средств, в частности, при проведении химиотерапии онкологических заболеваний [21, 22], а также в новых диагностических алгоритмах для выявления сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса и диагностики диастолической дисфункции левого желудочка [23–25].
В ряде исследований показано, что значения ГПС в покое различаются у пациентов с гемодинамически значимым коронарным атеросклерозом и без такового. Систематический обзор этих работ показал, что различия ГПС в покое между больными со стенозом (n = 397) и без такового (n = 381) составляют 2 процентных пункта (17,2±2,6 против 19,2±2,8%, p <0,0001), площадь под кривыми ошибок варьирует от 0,68 до 0,80, а пороговый уровень для прогнозирования гемодинамически значимого стеноза – от 17,4 до 19,7% с чувствительностью от 51% до 81% и специфичностью от 58% до 81% [15]. На основании полученных данных авторы обзора пришли к выводу, что ГПС в состоянии покоя обладает очень скромными возможностями в прогнозировании гемодинамически значимого стеноза у пациентов с острой или рецидивирующей болью в груди.
Аналогичный вывод позволяют сделать и результаты более поздних исследований. Так, в работе А.И. Степановой и соавт. (2021) [26] ГПС в покое не продемонстрировал прогностической значимости ни в отношении коронарного атеросклероза вообще, ни в отношении выраженного коронарного атеросклероза (индекс Gensini ≥35). В первом случае площадь под кривой ошибок оказалась равна 0,52 (95 % ДИ 0,42–0,63, р = 0,59), во втором – 0,63 (ДИ 0,47–0,73, р = 0,12). Однако в некоторых работах ГПС в покое демонстрирует очень высокие прогностические возможности в отношении гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий. Например, в упоминавшемся выше исследовании S.I. Farag и соавт. (2020) [16] площадь под кривой ошибок для ГПС в покое равнялась 0,827 (95% ДИ 0,732–0,921), а в исследовании S. Qin и соавт. [27] достигала 0,973.
Несколько более однородные результаты демонстрируют исследования, в которых изучались прогностические возможности ГПС при физической или фармакологической нагрузках [28–32]. Так, в исследовании А.И. Степановой и соавт. (2021) [26] площадь под кривой ошибок для ГПС при физической нагрузке как предиктора обнаружения выраженного коронарного атеросклероза (индекс Gensini≥ 35 баллов) оказалась равна 0,76 (95% ДИ 0,63–0,89; р <0,001), а чувствительность и специфичность для ГПС ниже 16,9% составила соответственно 80% и 70%. В исследовании S.I. Farag и соавт. (2020) [16] аналогичные показатели для глобального стрейна при добутаминовой нагрузке равнялись 0,837 (95% ДИ 0,748–0,927), 82,4 и 78,3% для ГПС ниже 12,5%.
Оценивая результаты изучения прогностических возможностей ГПС в отношении гемодинамически значимого коронарного атеросклероза, следует учитывать, что ГПС дает оценку сократительной способности миокарда левого желудочка в целом, снижение которой может быть связано как со стойкими или преходящими НЛС, так и с множеством других причин, например, с наличием сахарного диабета 2 типа [33, 34], распространенность которого среди лиц с выраженным коронарным атеросклерозом весьма высока. Так, в упоминавшемся выше исследовании S.I. Farag и соавт. (2020) [16] 59% обследованных пациентов имели сопутствующий сахарный диабет. Между тем, по данным C. Philouze и соавт. (2018) [35] прирост ГПС при добутаминовой нагрузке у больных сахарным диабетом значительно менее выражен, чем у здоровых лиц. В контрольной группе ГПС при нагрузке возрос в среднем на 3,4 процентных пункта (с 20,8±2,3 до 24,2±2,5%), а в группе больных диабетом всего лишь на 1 процентный пункт (с 20,2±2,7 до 21,2±2,4%). По мнению авторов, причиной недостаточного прироста ГПС могло послужить избыточное отложение у больных диабетом эпикардиального жира, который, будучи источником провоспалительных и профибротических цитокинов, оказывает негативное действие на сократительную способность кардиомиоцитов [36].
В исследовании M.J. Mansour и соавт. (2018) [31] результаты стресс-эхокардиографии с использованием технологии спекл-трекинга сопоставлялись не только с полученными при компьютерной КАГ данными о выраженности коронарного атеросклероза, но и с наличием у пациента сопутствующих заболеваний (цереброваскулярные болезни, сахарный диабет, артериальная гипертензия), а также факторов сердечно-сосудистого риска (курение и дислипидемия). Оказалось, что более низкие значения ГПС в покое и при нагрузке отмечаются не только у лиц с выраженным коронарным атеросклерозом, но и у лиц с множественными сопутствующими заболеваниями и факторами риска, что, по мнению авторов, указывает на субклиническую дисфункцию левого желудочка, вызванную этими состояниями. На основании полученных данных авторы приходят к выводу, что высокие значения ГПС позволяют исключить гемодинамически значимый стеноз, но низкие значения стрейна не дают оснований для его диагностики.
Таким образом, ГПС, будучи чувствительным маркером нарушения глобальной систолической функции левого желудочка, едва ли сможет стать эффективным средством диагностики НЛС. Более перспективным в этом отношении представляется определение продольного стрейна в регионах кровоснабжения при нагрузке, однако, как отмечалось выше, этот вопрос пока недостаточно изучен. Более того, оценка ГПС, и тем более РПС, имеет определенные ограничения использования, связанные прежде всего с качеством изображения, а также с некоторыми нарушениями ритма (например, желудочковая бигеминия).
ПОСТСИСТОЛИЧЕСКОЕ УКОРОЧЕНИЕ
Систола левого желудочка завершается в момент закрытия аортального клапана. К этому времени большинство сегментов уже достигают состояния максимального укорочения и начинают удлиняться. Однако некоторые сегменты продолжают укорачиваться и после завершения систолы желудочка. Этот феномен носит название «постсистолическое укорочение» (ПСУ). Количественную оценку ПСУ дает разность между максимальным и систолическим стрейном (ПСУ = максимальный продольный стрейн – систолический продольный стрейн) и постсистолический индекс (ПСИ), равный процентному отношению этой разности к максимальному продольному стрейну (ПСИ% = ПСУ/максимальный продольный стрейн, рисунок 5).
Рисунок 5. Схематическое изображение графика изменения продольного стрейна, на котором максимальный продольный стрейн отмечается после завершения систолы левого желудочка.
Figure 5. Schematic representation of the longitudinal strain change graph, in which the maximum longitudinal strain is observed after the completion of left ventricular systole.
ПСИ рассчитывается для каждого сегмента левого желудочка и отражается на цветовой карте (рисунок 6). Для анализа полученных данных нередко рассчитывается среднее значение ПСИ во всех сегментах левого желудочка (глобальный ПСИ) или в сегментах, относящихся к зоне кровоснабжения той или иной коронарной артерии (региональный ПСИ).
Рисунок 6. Результаты расчета постсистолического индекса. Представлены графики изменения стрейна в 17 сегментах левого желудочка на протяжении кардиоцикла. Систолическому продольному стрейну соответствует точка пересечения графика с вертикальной прямой AVC (aortic valve closure), отражающей момент закрытия аортального клапана. Стрелки указывают на максимальный продольный стрейн, зарегистрированный после завершения систолы. Сегменты, в которых зарегистрировано постсистолическое укорочение, выделены на цветовой карте насыщенным синим цветом.
Figure 6. Results of calculation of the postsystolic index. The graphs of strain changes in 17 segments of the left ventricle during the cardiac cycle are presented. The systolic longitudinal strain corresponds to the point of intersection of the graph with the vertical line AVC (aortic valve closure), reflecting the moment of closure of the aortic valve. Arrows indicate the maximum longitudinal strain recorded after the completion of systole. Segments in which postsystolic shortening is recorded are highlighted in saturated blue on the color map.
По данным P. Brainin и соавт. (2019) [37], у здоровых людей ПСУ регистрируется в среднем в 80% сегментов левого желудочка. При этом медиана ПСУ составляет 0,4% [интерквартильный интервал 0,2; 0,8%], а медиана ПСИ – 2% [0,7; 4,8%]. Механизм физиологического ПСУ связан с изменением геометрии левого желудочка в период изоволюмического расслабления, то есть в период от закрытия аортального до открытия митрального клапана. В это время полость левого желудочка из сильно вытянутой по продольной оси приобретает форму, более близкую к сферической. Поскольку площадь поверхности шара меньше площади любого несферического тела того же объема, площадь миокарда, окружающего полость левого желудочка, и расстояния между его близлежащими точками уменьшаются. Таким образом, физиологическое ПСУ – это именно укорочение, а не сокращение миокарда.
С клинической точки зрения, феномен ПСУ интересен тем, что причиной его появления может стать нарушение кровоснабжения миокарда. Так, в нескольких экспериментальных исследования на животных было показано, что окклюзия коронарной артерии приводит к снижению продольного стрейна и возрастанию ПСИ в зоне кровоснабжения этой артерии, а возобновление кровотока сопровождается быстрым восстановлением стрейна и относительно медленным возвращением к исходному уровню показателей ПСУ. Феномен замедленного восстановления показателей ПСУ после устранения ишемии получил название «ишемической памяти» [8, 38].
Связь ПСУ с ТИМ продемонстрирована и в целом ряде исследований с использованием стресс-ЭхоКГ с добутаминовой или физической нагрузкой [38–40]. Так, в работе А.И. Степановой и соавт. (2022) [39] было показано, что у лиц без коронарного атеросклероза (индекс Gensini = 0), с умеренным (<0 индекс Gensini <35) и выраженным (индекс Gensini ≥35) коронарным атеросклерозом в условиях физического покоя глобальный ПСИ статистически значимо не различался и составлял соответственно 2,0 [0, 9; 4, 1], 2,1 [1, 3; 4, 2] и 2,7 [1, 9; 5, 2]%. После дозированной физической нагрузки на тредмиле глобальный ПСИ возрос соответственно до 3,8 [2, 2; 6, 8], 3,4 [2, 2; 6, 2] и 8,9 [3, 8; 10, 7]%, что привело к появлению статистически значимых различий между пациентами с выраженным коронарным атеросклерозом и без такового (р = 0,012). Площадь под кривой ошибок для глобального ПСИ как предиктора выраженного коронарного атеросклероза оказалась равна 0,74 (95% ДИ 0,63–0,85; р <0,001), а чувствительность и специфичность критерия «глобальный ПСИ >4,9%» – 75% и 61%.
Похожие результаты получены в исследовании E. Rumbinaite и соавт. (2020) [40], в котором стресс-ЭхоКГ с добутаминовой нагрузкой выполнена 83 пациентам с умеренной претестовой вероятностью ИБС, у 45 из которых при КАГ был выявлен гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий. Исходно глобальный ПСИ у пациентов со стенозом и без такового равнялся 4,59±3,04 и 4,07±1,37% (р = 0,32), а при добутаминовой нагрузке возрос соответственно до 10,46±3,42 и 5,23±1,96% (р = 0,02). Площадь под кривой ошибок для глобального ПСИ при нагрузке равнялась 0,724 (р = 0,04), чувствительность и специфичность критерия «глобальный ПСИ >6,46%» – 70% и 74%.
В этом исследовании изучался не только глобальный, но и региональные ПСИ в зонах кровоснабжения трех коронарных артерий. Исходно в зоне кровоснабжения ПМЖВ региональный ПСИ у больных с гемодинамически значимым стенозом и без такового равнялся соответственно 6,87±3,32 и 4,65±2,32%, а после добутаминовой нагрузки – 11,59±5,21 и 6,43±3,21 (р = 0,02). В зоне кровоснабжения ПКА соответствующие значения ПСИ исходно равнялись 6,51±3,14 и 4,58±2,42% (р = 0,34), а при нагрузке – 10,71±4,21 и 5,59±2,46 (р = 0,03). В бассейне ОВ ЛКА исходные значения ПСИ составляли 6,65±3,14 и 5,01±2,34% (р = 0,53), а нагрузочные – 7,13±4,16 и 5,78±2,67% (р = 0,18). Таким образом, нагрузка добутамином приводит к возрастанию как глобального ПСИ, так и регионального ПСИ в зоне кровоснабжения пораженной артерии, однако исходные значения регионального ПСИ и его прирост при нагрузке различаются в разных сосудистых зонах. Очевидно, что эти различия создают дополнительные трудности для интерпретации результатов определение регионального ПСИ.
Возможность использования изменения ПСИ при нагрузке для выявления лиц с гемодинамически значимым коронарным атеросклерозом на сегодняшний день можно считать доказанной, однако целый ряд вопросов остается открытым.
Прежде всего следует отметить отсутствие общепризнанного критерия диагностики патологического ПСУ. Достаточно часто в роли такого критерия выступает значение ПСИ, превышающее 20%, который в свое время был предложен для диагностики патологического ПСУ по данным тканевого доплеровского исследования. Однако, как отмечалось выше, у больных с гемодинамически значимым коронарным атеросклерозом ПСИ в зоне кровоснабжения пораженной артерии на фоне нагрузки возрастает примерно до 10%. Увеличение ПСИ в данном случае, несомненно, является патологическим, но оно даже близко не приближается к 20%. Таким образом, вопрос о критериях диагностики патологического ПСУ в настоящее время не решен и требует изучения.
В большинстве исследований, посвященных изучению связи ПСУ с ишемией миокарда, продемонстрирована достаточно высокая чувствительность возрастания ПСИ как признака ишемии миокарда, однако его специфичность требует уточнения, поскольку патологическое ПСУ выявляется при гипертрофической, дилатационной и стрессовой кардиомиопатиях, артериальной гипертензии и аортальном стенозе [41]. Очевидно, что для использования ПСИ в клинической практике необходим критерий дифференциальной диагностики ишемических и неишемических изменений этого показателя.
Дискуссионным остается и вопрос о механизмах развития патологического ПСУ, к числу которых относят, во-первых, задержку начала сокращения участка миокарда из-за позднего поступления к нему волны возбуждения; во-вторых, замедленное сокращение поврежденного (например, ишемизированного) участка сердечной мышцы; в-третьих, деформацию участка миокарда, утратившего свою сократительную способность, при сокращении и расслаблении окружающей его сердечной мышцы.
Наглядное представление о роли нарушений внутрижелудочковой проводимости в развитии ПСУ дают представленные на рисунке 7 цветовые карты, полученные при внутрисердечной электрокардиостимуляции различных участков проводящей системы. Очевидно, что нарушения внутрижелудочковой проводимости практически исключают возможность выявления ПСУ иного происхождения. Не исключено, что локальные нарушения внутрижелудочковой проводимости играют роль в развитии патологического ПСУ в ишемизированных участках миокарда, однако этот вопрос нуждается в изучении.
Рисунок 7. Влияния пути распространения волны возбуждения по левому желудочку на постсистолическое сокращение. А – синусовый ритм, Б – электрокардиостимуляция в области пучка Гиса, В – в области средней трети межжелудочковой перегородки, Г – в области верхушки правого желудочка.
Figure 7. Effects of the excitation wave propagation path along the left ventricle on the post-systolic contraction. A: sinus rhythm, B: electrical cardiac stimulation in the His bundle region, С: in the region of the middle third of the interventricular septum, D: in the region of the apex of the right ventricle.
На замедленное сокращение миокарда как причину появления ПСУ указывают результаты исследования C. Eek и соавт. (2011) [42], в котором у пациентов с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST сопоставлялись показатели продольной деформации и ПСУ в зоне пораженной коронарной артерии до и после реваскуляризации. Оказалось, что после реваскуляризации восстановление систолической функции происходит в тех сегментах, в которых на фоне острой ишемии отмечалось выраженное ПСУ. Такой результат позволил авторам сделать вывод, что регистрация ПСУ в сегментах, кровоснабжаемых пораженными коронарными артериями, указывает на сохранение жизнеспособности ишемизированного миокарда.
Однако в сходных по дизайну исследованиях C. Terkelsen и соавт. (2007) [43] и P. Brainin и соавт. (2018) [44] при динамическом наблюдении не было отмечено восстановления систолической функции сегментов с выраженным ПСУ. Более того, была выявлена связь ПСУ с развитием в дальнейшем сердечной недостаточности, что свидетельствует о нежизнеспособности миокарда с выраженным ПСУ и позволяет связать этот феномен с деформацией утратившего сократительную способность участка миокарда при расслаблении окружающей его мышечной ткани.
Механизм появления ПСУ в неспособном к сокращению миокарде легко понять на примере участка миокарда, находящегося в состоянии дискинеза. Во время систолы такой участок выбухает за контур левого желудочка, что ведет к увеличению площади этого участка и расстояния между его близлежащими точками. Во время диастолы выбухание исчезает, а площадь дискинетичного участка и расстояние между его близлежащими точками уменьшаются, что и регистрируется как ПСУ.
Таким образом, вопрос о механизме развития патологического ПСУ имеет прямое отношение к клинической интерпретации этого феномена и потому, безусловно, заслуживает дальнейшего изучения. Подтверждением этому могут служить результаты speckle-tracking эхокардиографии, представленные на рисунке 8. У пациента с 95% стенозом ОВ ЛКА в пробе с физической нагрузкой визуально были выявлены НЛС (гипокинез) в базальном и медиальном заднебоковых сегментах. При этом значения продольного систолического стрейна на фоне нагрузки возросли во всех сегментах, включая зону кровоснабжения пораженной артерии (рисунок 8 А, В), что противоречит как результатам визуальной оценки нагрузочной пробы, так и данным КАГ. Однако постсистолический индекс в зоне кровоснабжения ОВ ЛКА возрос с 0 до 27% (рисунок 8 Б, Г), подтвердив тем самым адекватность визуальной оценки результатов нагрузочной пробы. Исходя из имеющихся на сегодняшний день знаний о механизмах развития и клиническом значении изменения показателей деформации при физической нагрузке, объяснить результаты данного исследования не представляется возможным.
Рисунок 8. Результаты speckle-tracking эхокардиографии в покое (А, Б) и после дозированной физической нагрузки (В, Г) у пациента с 95% стенозом огибающей ветви левой коронарной артерии.
Figure 8. Results of speckle-tracking echocardiography at rest (A, B) and after dosed physical exercise (C, D) in a patient with 95% stenosis of the circumflex branch of the left coronary artery.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время определение показателей деформации левого желудочка при физической или фармакологической нагрузке не может рассматриваться в качестве альтернативы традиционно используемой визуальной оценке НЛС. Однако углубление знаний о механизмах и клиническом значении различных показателей деформации миокарда, наряду с совершенствованием как самой методики speckle-tracking эхокардиографии, так и алгоритмов автоматизированной обработки получаемых с ее помощью данных, создает реальную перспективу ее внедрения в клиническую практику в качестве основного метода выявления транзиторных НЛС у больных с гемодинамически значимым коронарным атеросклерозом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования. |
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи. |
Соответствие нормам этики. Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (протокол №4 от 16.04.2025 г.) |
Участие авторов. Николаева Т.О. – вклад в получение, анализ данных литературы и написание текста статьи. Мазур В.В. – вклад в получение результатов, редактирование текста статьи, предоставление иллюстративного материала из авторского архива. Мазур Е.С. – разработка концепции статьи, анализ данных, внесение в рукопись существенно важной правки с целью повышения научной ценности статьи. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы. |
Об авторах
Татьяна Олеговна Николаева
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России
Автор, ответственный за переписку.
Email: nikolaevato@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1103-5001
канд. мед. наук, доцент, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней
Россия, ТверьВ. В. Мазур
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России
Email: vera.v.mazur@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-4818-434X
д-р мед. наук, доцент, профессор кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней
Россия, ТверьЕ. С. Мазур
ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России
Email: mazur-tver@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8879-3791
д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии и профессиональных болезней
Россия, ТверьСписок литературы
- Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac camber quantification by echocardiography in adults: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2015;16:233-271. doi: 10.1093/ehjci/jev014
- Vrints ChJ, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes: Developed by the task force for the management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC) Endorsed by the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). European Heart Journal. 2024;45(36):3415-3537. doi: 10.1093/eurheartj/ehae177
- Dzhioeva ON. Functional methods of amyloid cardiomyopathy diagnostic in practice and in expert centers: A review. Terapevticheskii Arkhiv (Ter. Arkh.). 2023;95(1):96-102. [Джиоева О.Н. Функциональная диагностика амилоидной кардиомиопатии в условиях практики и экспертных центров. Терапевтический архив. 2023;95(1):96-102]. doi: 10.26442/00403660.2023.01.202081
- Barbarash OL, Karpov YuA, Panov AV, et al. 2024 Clinical practice guidelines for Stable coronary artery disease. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(9):6110. [Барбараш О.Л., Карпов Ю.А., Панов А.В., и др. Стабильная ишемическая болезнь сердца. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(9):6110]. doi: 10.15829/1560-4071-2024-6110
- Pellikka PA, Arruda-Olson A, Chaudhry FA, et al. Guidelines for Performance, Interpretation, and Application of Stress Echocardiography in Ischemic Heart Disease: From the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2020; 33(1):1-41.e8. doi: 10.1016/j.echo.2019.07.001
- Cerqueira MD, Weissman NJ, Dilsizian V, et al. Standardized myocardial segmentation and nomenclature for tomographic imaging of the heart: a statement for heartcare professionals from the Cardiac Imaging Committee of the Council on Clinical Cardiology of the American Heart Association. Circulation. 2002;105:539-542. doi: 10.1161/hc0402.102975
- Stepanova AI, Alekhin MN. Capabilities and limitation of speckle tracking stressechocardiography. Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2019;34(1):10-17. [Степанова А.И., Алехин М.Н. Возможности и ограничения спекл-трекинг стресс-эхокардиографии. Сибирский медицинский журнал. 2019;34(1):10-17]. doi: 10.29001/2073-8552-2019-34-1-10-17
- Alekhin MN, Stepanova AI. Echocardiography in the Assessment of Postsystolic Shortening of the Left Ventricle Myocardium of the Heart. Kardiologiia. 2020;60(12):110-116. [Алехин М.Н., Степанова А.И. Эхокардиография в оценке постсистолического укорочения миокарда левого желудочка сердца. Кардиология. 2020;60(12):110-116.]. doi: 10.18087/cardio.2020.12.n1087
- Oleynikov VE, Smirnov YuG, Galimskaya VA, et al. New capabilities in assessing the left ventricular contractility by two-dimensional speckle tracking echocardiography. Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2020;35(3):79-85. [Олейников В.Э., Смирнов Ю.Г., Галимская В.А., и др. Новые возможности оценки сократимости левого желудочка методом двухмерной speckle tracking эхокардиографии. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2020;35(3):79-85]. doi: 10.29001/2073-8552-2020-35-3-79-85
- Tyurina LG, Khamidova LT, Ryubalko NV, et al. Role of speckle-tracking echocardiography in diagnosis and further prognosis of coronary heart disease. Medical alphabet. 2023;(16):7-18. [Тюрина Л.Г., Хамидова Л.Т., Рыбалко Н.В., и др. Роль спекл-трэкинг-эхокардиографии в современной диагностике и прогнозе при коронарной недостаточности. Медицинский алфавит. 2023;(16):7-18]. doi: 10.33667/2078-5631-2023-16-7-18
- Shvets DA, Povetkin SV. Limitations of diagnosis of ischemic left ventricular dysfunction using the values of strain, twist and untwist in patients with myocardial infarction of various localization. Kardiologiia. 2024;64(3):55-62. [Швец Д.А., Поветкин С.В. Возможности диагностики ишемической дисфункции левого желудочка с помощью значений деформации, показателей вращения у больных инфарктом миокарда различной локализации. Кардиология. 2024;64(3):55-62]. doi: 10.18087/cardio.2024.3.n2253
- Voigt J-U, Pedrizzetti G, Lysyansky P, et al. Definition for a common standard for 2D speckle tracking echocardiography: a consensus document of the EACVI/ASE/Industry Task Force to standardize deformation imaging. Eur Heart J Cardiovask Imaging. 2015;16:1-11. doi: 10.1093/ehjci/jeu184
- Larsen AH, Clemmensen TS, Wiggers H, Poulsen SH. Left Ventricular Myocardial Contractile Reserve during Exercise Stress in Healthy Adults: A Two-Dimensional Speckle-Tracking Echocardiographic Study. J Am Soc Echocardiogr. 2018;31(10):1116-1126. doi: 10.1016/j.echo.2018.06.010
- Smedsrud MK, Sarvari S, Haugaa KH, et al. Duration of myocardial early systolic lengthening predicts the presence of significant coronary artery disease. J Am Coll Cardiol. 2012;60:1086-93. doi: 10.1016/j.jacc.2012.06.022
- Norum BI, Ruddox V, Edvardsen T, Otterstad JE. Diagnostic accuracy of left ventricular longitudinal function by speckle tracking echocardiography to predict significant coronary artery stenosis. A systematic review. BMC Medical Imaging. 2015;15(1):25-36. doi: 10.1186/s12880-015-0067-y
- Farag SI, El-Rabbat K, Mostafa SA, et al. The predictive value of speckle tracking during dobutamine stress echocardiography in patients with chronic stable angina. Indian Heart Journal. 2020;72:40-45. doi: 10.1016/j.ihj.2020.03.001
- Leitman M, Tyomkin V, Peleg E, et al. Speckle tracking imaging in normal stress echocardiography. J Ultrasound Med. 2017;36:717-724. doi: 10.7863/ultra.16.04010
- Lancellotti P, Pellikka PA, Budts W, et al. The clinical use of stress echocardiography in non-ischaemic heart disease: recommendations from the European Association of Cardiovascular Imaging and the American Society of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr. 2017;30:101-138. doi: 10.1093/ehjci/jew190
- Yingchoncharoen T, Agarwal S, Popovic ZB, Marwick TH. Normal ranges of left ventricular strain: a meta-analysis. J Am Soc Echocardiogr. 2013;26:1850191. doi: 10.1016/j.echo.2012.10.008
- Trusov YА, Shchukin YuV, Limareva LV. Prediction of adverse outcomes in the long-term follow-up period in patients with chronic heart failure who have suffered a myocardial infarction. Science and Innovations in Medicine. 2025;10(2):119-127. [Трусов Ю.А., Щукин Ю.В., Лимарева Л.В. Прогнозирование неблагоприятных исходов в отдаленном периоде наблюдения у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, перенесших инфаркт миокарда. Наука и инновации в медицине. 2025;10(2):119-127]. doi: 10.35693/SIM655825
- Galyavich AS, Tereshchenko SN, Uskach TM, et al. 2024 Clinical practice guidelines for Chronic heart failure. Russian Journal of Cardiology. 2024;29(11):6162. [Галявич А.С., Терещенко С.Н., Ускач Т.М., и др. Хроническая сердечная недостаточность. Клинические рекомендации 2024. Российский кардиологический журнал. 2024;29(11):6162]. doi: 10.15829/1560-4071-2024-6162
- Thavendiranathan P, Poulin F, Lim KD, et al. Use of Myocardial Strain Imaging by Echocardiography for the Early Detection of Cardiotoxicity in Patients During and After Cancer Chemotherapy: A Systematic Review. J Am Coll Cardiol. 2014; 63:2751-68. doi: 10.1016/j.jacc.2014.01.073
- Pieske P, Tschöpe C, De Boer RA, et al. How to diagnose heart failure with preserved ejection fraction: The HFA-PEFF diagnostic algorithm: A consensus recommendation from the Heart Failure Association (HFA) of the European Society of Cardiology (ESC). Eur J Heart Fail. 2019;40:3297-3317. doi: 10.1093/eurheartj/ehz641
- Robinson S, Ring L, Oxborough D, et al. The assessment of left ventricular diastolic function: guidance and recommendations from the British Society of Echocardiography. Echo Res Pract. 2024;11(1):16. doi: 10.1186/s44156-024-00051-2
- Germanova OA, Reshetnikova YuB, Efimova EP. Modern methods of assessment of diastolic function of the left ventricle. Samara, 2024. (In Russ.). [Германова О.А., Решетникова Ю.Б., Ефимова Е.П. Современные методы оценки диастолической функции левого желудочка. Самара, 2024].
- Stepanova AI, Radova NF, Alekhin MN. Speckle tracking stress echocardiography on treadmill in assessment of the functional significance of the degree of coronary artery disease. Kardiologiia. 2021;61(3):4-11. [Степанова А.И., Радова Н.Ф., Алехин М.Н. Спекл-трекинг стресс-эхокардиография с использованием тредмил-теста в оценке функциональной значимости степени стеноза коронарных артерий. Кардиология. 2021;61(3):4-11]. doi: 10.18087/cardio.2021.3.n1462
- Qin S, Cao X, Zhang R, Liu H. Predictive value of speckle tracking technique for coronary artery stenosis in patients with coronary heart disease. Am J Transl Res. 2023;15(9):5873-5881. PMID: 37854206; PMCID: PMC10579018
- Rumbinaitė E, Žaliaduonytė-Pekšienė D, Vieželis M, et al. Dobutamine-stress echocardiography speckle-tracking imaging in the assessment of hemodynamic significance of coronary artery stenosis in patients with moderate and high probability of coronary artery disease. Medicina. 2016;52(6):331-339. doi: 10.1016/j.medici.2016.11.005
- Nishi T, Funabashi N, Ozawa K, et al. Regional layer-specific longitudinal peak systolic strain using exercise stress two-dimensional speckle-tracking echocardiography for the detection of functionally significant coronary artery disease. Heart and Vessels. 2019;34(8):1394-403. doi: 10.1007/s00380-019-01361-w
- Park JH, Woo JS, Ju S, et al. Layer-specific analysis of dobutamine stress echocardiography for the evaluation of coronary artery disease. Medicine. 2016;95(32):e4549-4557. doi: 10.1097/MD.0000000000004549
- Mansour MJ, Al-Jaroudi W, Hamoui O, et al. Multimodality imaging for evaluation of chest pain using strain analysis at rest and peak exercise. Echocardiography. 2018;35(8):1157-63. doi: 10.1111/echo.13885
- Ejlersen JA, Poulsen SH, Mortensen J, May O. Diagnostic value of layerspecific global longitudinal strain during adenosine stress in patients suspected of coronary artery disease. The International Journal of Cardiovascular Imaging. 2017;33(4):473-80. doi: 10.1007/s10554-016-1022-x
- Liu JH, Chen Y, Yuen M, et al. Incremental prognostic value of global longitudinal strain in patients with type 2 diabetes mellitus. Cardiovasc Diabetol. 2016;15:22-27. doi: 10.1186/s12933-016-0333-5
- Wierzbowska-Drabik K, Trzos E, Kurpesa M, et al. Diabetes as an independent predictor of left ventricular longitudinal strain reduction at rest and during dobutamine stress test in patients with significant coronary artery disease. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2018;19(11):1276-1286. doi: 10.1093/ehjci/jex315
- Philouze C, Obert P, Nottin S, et al. Dobutamine stress echocardiography unmasks early left ventricular dysfunction in asymptomatic patients with uncomplicated type 2 diabetes: a comprehensive two-dimensional speckle-tracking imaging study. J Am Soc Echocardiogr. 2018;31(5):587-597. doi: 10.1016/j.echo.2017.12.006
- Serrano-Ferrer J, Crendal E, Walther G, et al. Effects of lifestyle intervention on left ventricular regional myocardial function in metabolic syndrome patients from the RESOLVE randomized trial. Metabolism. 2016;65:1350-1360. doi: 10.1016/j.metabol.2016.05.006
- Brainin P, Biering-Sørensen SR, Møgelvang R, et al. Post-systolic shortening: normal values and association with validated echocardiographic and invasive measures of cardiac function. The International Journal of Cardiovascular Imaging. 2019;35(2):327-37. doi: 10.1007/s10554-018-1474-2
- Brainin P, Hoffmann S, Fritz-Hansen T, et al. Usefulness of Postsystolic Shortening to Diagnose Coronary Artery Disease and Predict Future Cardiovascular Events in Stable Angina Pectoris. Journal of the American Society of Echocardiography. 2018;31(8):870-879.e3. doi: 10.1016/j.echo.2018.05.007
- Stepanova AI, Radova NF, Alekhin MN. Diagnostic value of postsystolic shortening of the left ventricular myocardium assessed during speckle tracking stress echocardiography on the treadmill in patients with coronary artery disease. Kardiologiia. 2022;62(1):57-64. [Степанова А.И., Радова Н.Ф., Алехин М.Н. Диагностическое значение постсистолического укорочения миокарда левого желудочка у пациентов с ишемической болезнью сердца при speckle-tracking стресс-эхокардиографии с использованием тредмил-теста. Кардиология. 2022;62(1):57-64]. doi: 10.18087/cardio.2022.1.n1724
- Rumbinaite E, Karuzas A, Verikas D, et al. Detection of Functionally Significant Coronary Artery Disease: Role of Regional Post Systolic Shortening. J Cardiovasc Echogr. 2020;30(3):131-139. doi: 10.4103/jcecho.jcecho_55_19
- Brainin P. Myocardial Postsystolic Shortening and Early Systolic Lengthening: Current Status and Future Directions. Diagnostics. 2021;11:1428-36. doi: 10.3390/diagnostics11081428
- Eek C, Grenne B, Brunvand H, et al. Postsystolic shortening is a strong predictor of recovery of systolic function in patients with non-ST-elevation myocardial infarction. European Journal of Echocardiography. 2011;12(7):483-9. doi: 10.1093/ejechocard/jer055
- Terkelsen C, Hvitfeldt Poulsen S, Nørgaard BL, et al. Does Postsystolic Motion or Shortening Predict Recovery of Myocardial Function After Primary Percutanous Coronary Intervention? Journal of the American Society of Echocardiography. 2007;20(5):505-511. doi: 10.1016/j.echo.2006.10.004
- Brainin P, Haahr-Pedersen S, Sengeløv M, et al. Presence of post-systolic shortening is an independent predictor of heart failure in patients following ST-segment elevation myocardial infarction. The International Journal of Cardiovascular Imaging. 2018;34(5):751-60. doi: 10.1007/s10554-017-1288-7
Дополнительные файлы